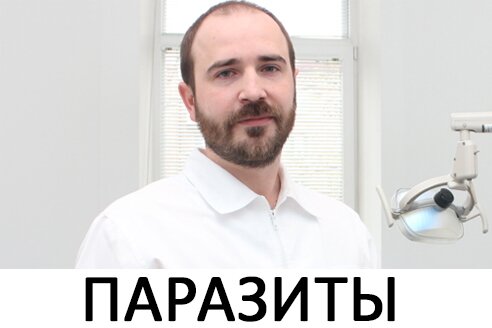|
|
|
Базисное понятие брака
Достоинство официальных заявлений церкви заключается в предоставлении необходимых указаний для всех, кто участвует в общественных прениях. Определяются основные пункты или направления, вокруг которых разворачиваются дискуссии, независимо от их исхода.
Но этические позиции церкви не освобождают от необходимости дальнейших уточнений; позиции, которые занимает церковь, не являются специфичными для какой-либо определенной конфессии и не определяются полностью мирским взглядом на мир. Мораль универсальна и потому допускает универсальное общение.
Одна из истин, обсуждаемых в подобных дискуссиях — базисное понимание брака и полового акта.
Те, кто убеждены в фундаментальной связи принципиальных аспектов репродукции с институтом брака, используют эти принципы в составлении протоколов гомогенной инсеминации. Репродуктивная медицина связана этой логикой; она не может провозглашать собственные критерии или нормы. В рамках такого подхода расширение протоколов до квазигомогенной инсеминации становится бессмысленным.
Ответственность за социальный контекст сексуальности и репродукции теряет свое значение. Главным критерием становится забота о ребенке, в первую очередь — предоставление ему семьи в виде стабильной гетеросексуальной пары. Это условие наиболее важно для формирования и развития зрелой и цельной взрослой личности, а также становления его идентичности.
В этой связи возникает вопрос к врачу: независимо от легальности процедуры, можно ли подобное допущение интерпретировать как доказательство толерантности к ответственности? Главная цель современных реформ законодательства в сфере наследования, частично касающихся данного аспекта, заключается в защите прав незаконно рожденного ребенка.
Этические возражения усиливаются, если желание выходит за рамки такой социально одобренной позиции. И тогда уже неважно, выражает ли желание иметь ребенка один из родителей или гомосексуальная пара. В любом случае желание удовлетворяется ценой ребенка. Следует отметить, что поддерживающая функция социального контекста игнорируется; ребенок лишается защиты.
Подобное наблюдается, если женщина из-за преклонного возраста частично или полностью утрачивает способность исполнять родительские обязанности. Родители существуют для ребенка, а не ребенок для родителей. Этот фундаментальный принцип обязательно должен учитываться в каждом конкретном случае.
Искусственная инсеминация спермой донора будет и дальше вызывать негативное отношение, так как связана с непреодолимыми затруднениями.
Обвинений в сходстве с «супружеской неверностью» можно избежать, так как это понятие содержит элемент предательства со стороны индивида, а предательство далеко не всегда применимо к ситуации искусственной инсеминацией.
Подобное ограничение не позволяет полностью преодолеть все контраргументы, которые приводились выше. Они рождаются вследствие разделения двух понятий — генетического и юридического родителя. Сточки зрения процесса зарождения ребенка телесный и духовный аспекты взаимоотношений разделяются, в связи с чем возникает опасность внедрения дуалистической антропологии.
Несомненно, ребенок сталкивается с проблемой неопределенности генетической идентичности. Приводит ли это к формированию подсознательного страха утраты чувства собственной принадлежности к семье? В конечном итоге самосознание индивида зависит от знания собственного происхождения.
Было бы несправедливым отказывать индивиду в удовлетворении такого законного требования, при чем общество также испытывает негативные последствия подобного отказа. В своем совершенно понятном желании иметь детей супруги не должны игнорировать социальной ответственности, которая возлагается на них при рождении ребенка: цена за удовлетворение этого желания — полная утрата чувства гармонии.
Концепция усыновления, которая актуализируется при обсуждении данного вопроса, представляется не более чем семантической уловкой. Эта концепция предусматривает совершенно противоположную трактовку исходного понятия: полная утрата ребенком возможность иметь истинных родителей интерпретируется как предоставление ребенка бесплодной паре.
В такой ситуации супруги должны задаться следующим вопросом: является ли усыновление в его классическом понимании полноценной альтернативой желанию иметь собственного ребенка? Тем более что супруги могут просто смириться с судьбой бесплодной пары. Причем такой подход способствует укреплению супружеских отношений и освобождению энергии, что обеспечивает более близкие и прочные межличностные отношения, выходящие за рамки интимных аспектов брака.
Репродуктивная медицина содержит открытое противоречие классическому учению церкви. Это противоречие касается базисной антропологии полового акта, в первую очередь — проблемы неразделимости двух символических его значений. В течение длительного времени данная проблема служит предметом этической дискуссии, причем в ученых кругах церкви уже подвергается обсуждению и отдельный ее аспект — ответственность родителей.
Вопрос заключается в следующем: заслуживает ли процесс произведения потомства, изолированный от двуединого смысла полового акта (что происходит при использовании репродуктивных методик, направленных на устранение гнета бесплодия), подобного осуждения? Становится ли понимание связи между выражением супружеской любви и готовностью к искусственному оплодотворению слишком ограниченным в том случае, если феноменологическая природа полового акта становится главным направлением дискуссии?
Можно констатировать запоздалое установление необходимых различий в понятиях в результате теологических этических дискуссий. Эти дискуссии были направлены на формулирование более гибкой интерпретации собственно человеческой активности.
Понятие исключительности полового акта, несомненно, является важным показателем, но ни в коей мере не является критерием для его моральной оценки.
Последняя требует учитывать все многообразие факторов и обстоятельств. Если супруги сознательно соглашаются с потенциальными последствиями искусственной репродукции как удовлетворения желания иметь детей, то их решение, несомненно, следует рассматривать как достоверное выражение супружеской любви. Официальное учение объединяет два значения полового акта, тогда как техническая сепарация становится противовесом такому стремлению к объединению.
Моральные оценки репродуктивной технологии должны учитывать это обстоятельство. Интерпретация репродуктивных методик в качестве технологической угрозы одному из наиболее спонтанных человеческих актов представляется неадекватной реальному положению вещей.
Забота о психосоциальном благополучии
Главная цель учреждений репродуктивной медицины — благополучие ребенка. В то же время необходимо учитывать также психологические и социальные факторы. Один из них — свобода партнеров в принятии решения обратиться за помощью в институт репродукции: супруги не должны подвергаться репродуктивным процедурам вследствие эмоционального или психологического давления любого рода, иначе, несомненно, возрастает риск негативных последствий для ребенка. Поэтому необходимо, чтобы супруги тщательно оценили возможность и адекватность альтернативных решений проблемы.
Партнеры, которые могут непредвзято оценить все возможные альтернативы, достигают более полного понимания собственного желания иметь потомство и родительских чувств.
В этом отношении весьма полезна консультация квалифицированного психолога, особенно если бесплодность угрожает целостности брака. В такой ситуации появление ребенка не может полностью решить проблему, тем более что возникает опасность сублимированного, но вполне реального пренебрежительного к нему отношения. Последнее, в свою очередь, может оказать негативное влияние на последующее развитие ребенка.
Возможно, ожидания в сублимированной форме направляются на ребенка, который, даже при всех возможных усилиях, не сможет удовлетворить их полностью. Нежелательные последствия подобных заблуждений прослеживаются во всех аспектах супружеских отношений.
Ребенок никогда не станет «средством терапии» для неустойчивых отношений между супругами. Поэтому возможные варианты следует рассматривать на более глубоком уровне; удовлетворение желания иметь ребенка вполне может выступать в ряду различных способов уклонения супругов от необходимости более глубокой эмоциональной или психологической терапии. Ничто не может заменить такой терапии в коррекции эмоционального или психологического дистресса.
Моральная оценка суррогатного материнства в разных его проявлениях представляет более легкой и не требует углубленного рассмотрения проблемы. Беременность не ограничивается физиологическими процессами и, конечно, не должна подвергаться коммерциализации.
Между беременной женщиной и будущим ребенком устанавливается глубокая и интимная связь. Эти отношения невозможно разорвать в результате простого соглашения сразу после родов, не применяя откровенно насильственных методов. Более того, нельзя игнорировать тот факт, что разрешение возможных конфликтов вследствие такого разрыва становиться крайне затруднительным.
Кто должен принимать решение в случае высокого риска осложненной беременности? Может ли приемная мать нести всю ответственность или генетическая мать также имеет право на участие в принятии решения и, если да, какова степень ее участия? Можно ли предусмотреть потенциальный риск, зафиксировав право отказа в контрактной форме? Можно ли оформить подобный контракт юридически?
В этой связи возникают неразрешимые конфликты в отношении ребенка, который, будучи вовлеченным в ситуацию, полностью лишен права голоса. Поэтому моральные аспекты проблемы, несомненно, требуют дальнейшего уточнения.

Папилломы - ПРИЗНАК наличия паразитов в теле! На ночь нужно пить кружку...
|

Этот червь живет у каждого ВТОРОГО человека и разрушает органы...
|
Телесная неприкосновенность эмбриона
Логика защиты человеческой жизни привязана к оценке эмбриона как личности. От данного утверждения зависит ответственность за помощь слабому и больному плоду. Этическое решение вопроса указывает, в первую очередь, на ответственность врача, применяющего репродуктивную методику, а также на биолога.
Такое решение возвращают к необходимости внимательного рассмотрения термина «логика». Это значит, что обязанность защиты человеческой жизни остается качественно неизменной на всех этапах развития человека, так как речь идет о том, что называют равными правами на жизнь и защиту от физического повреждения.
Защиту жизни нельзя ранжировать — это означало бы грубое нарушение логического смысла обсуждаемых понятий.
Из центрального тезиса вытекает множество заключений, все из которых требуют дальнейшего развития. В энциклике «Evangelium vitae» (п. 14) обсуждается проблема «запасного» эмбриона, который оценивается как угроза девальвации ценности человеческой жизни и превращения человека в объект для манипуляций.
Сегодня можно возразить, что достижения медицинской технологии снимают необходимость такой интерпретации. Требование переноса по возможности всех эмбрионов, созданных in vitro, в женский организм может быть выполнено, в связи с чем подобные опасения рассеиваются. Само собой разумеется, что супруги должны быть готовы принять факт множественной беременности в случае ее возникновения.
Недопустимо сначала спровоцировать опасную ситуацию, а потом уклониться от ее последствий, особенно ценой нарушения неоспоримых прав человека. Никто не имеет права преднамеренно отказать эмбриону в праве на выживание, даже если эмбрион, созданный «in vitro»-технологией, должен получить качественную оценку. С точки зрения обязанности поддержания жизни этот критерий приобретает наибольшее значение.
Определение уровня точности для оценки потенциальной способности эмбриона к выживанию составляет практическую проблему. Руководящим принципом в случае сомнений в жизнеспособности должно стать предоставление шанса эмбриону.
В рамках наиболее точного определения категория «личность» может использоваться в отношении эмбриона даже на самых первых этапах его формирования. Таким образом, эмбрион приобретает независимость и, следовательно, обосновывается отказ от экспериментов над человеческим материалом.
Понятие индивидуального никогда не ограничивалось исключительным средством достижения конечной цели независимости от собственного «Я».
Подобный вариант категорического императива определяет активность исследователей, которые разделяют упомянутые выше антропологические предпосылки. Право внедряться в телесную целостность эмбриона на первых стадиях его развития следует рассматривать именно в этом аспекте.
Преднамеренное нарушение или игнорирование телесной цельности эмбриона недопустимо, так как в этом случае ребенок, независимо от его состояния — первый, кого затрагивает процесс терапии — полностью утрачивает свое значение как абсолютного приоритета в достижении поставленной цели.
Однозначность подобной позиции может определять строгие ограничения для деятельности исследователя, так нельзя говорить о принятии индивидуумом возможного риска, если индивид не выражает свободного и информированного согласия. Несомненно, позиция эмбриона в данном аспекте остается наиболее слабой и уязвимой.
За этим следует заключение о неприемлемости генетических манипуляций с эмбрионом. В основе такого утверждения лежит понятие права на подлинное генетическое наследование, которое имеет непосредственное отношение к потенциальной возможности лечения эмбриона. В связи с этим затрагиваются не только последствия подобных исследований, но и необходимость защиты от опасных евгенических взглядов.
Манипуляции, ранее выполнявшиеся на зародышевом материале, например, смесь спермы от разных доноров, становятся предметом аналогичных опасений.
Если такой метод является единственным способом избежать передачи генетических дефектов, супруги должны решить для себя, не слишком ли высока цена за собственное потомство. Очевидно, что эти рассуждения касаются и гамет донора.
Можно возразить, что абсолютную генетическую идентичность полностью верифицировать не удается, а медицинские технологии лишь ускоряют естественный процесс и ничего более. Подобное возражение не представляется убедительным, так как предполагаемый риск не только осознанно провоцируется, но и преципитируется.
Остается открытым вопрос обоснованности сходных опасений в случаях определения пола по евгеническим показаниям, так как трудно согласиться с мнением о вреде эмбриону вследствие подобных процедур. Спецификация любого рода — при строгих ограничениях — должна учитывать неопределенную опасность неконтролируемого прорыва заградительного барьера.
Еще один аспект — расширяющееся применение метода микроинъекций (интрацитоплазматические инъекции спермы; ИКСИ) в случаях мужского бесплодия.
Можно предполагать манипулятивный характер процедуры: врач произвольно выбирает клетки спермы и вводит их в яйцеклетку, тогда как в естественных условиях невозможно контролировать, какие именно из множества поступающих сперматозоидов достигнут яйцеклетки.
Данное опасение не имеет оснований, так как селекция не является целенаправленной. Более того, если бы это было возможным, то подобная помощь в естественных условиях пошла бы только на пользу в достижении поставленной цели, так как могла бы способствовать повышению шансов наступления беременности. Это позволило бы предотвратить врожденные аномалии без нарушения закона и обвинения с позиций натуралистической концепции индивидуума с соответствующими евгеническими взглядами.
Такие процедуры также могли бы способствовать отказу от гетерогенной инсеминацией, и ни один из вариантов манипулятивного использования этих процедур не может дискредитировать их адекватного и законного применения.
Ответственность за телесную целостность предусматривает обязанность по возможности максимального снижения риска для жизни. Медицинский исследователь и клиницист работают с природным материалом, который доступен не только для эмпирической научной оценки; они также привносят в данные дополнительные представления, которые выходят за рамки эмпирических показателей и гуманизируют их.
Критерием для принятия решения служит не Природа сама по себе, а исходная концепция индивида. Именно в такой перспективе решаются проблемы риска для жизни, которые обязательно возникают. Следовательно, можно считать полностью обоснованным отказ от замораживания оплодотворенных яиц (криогенное консервирование) — за исключением пронуклеарной стадии — в связи с непропорционально высоким риском для благополучия будущего ребенка.
Полностью предотвратить все факторы риска невозможно: с этой точки зрения показательна сама Природа, которая всегда амбивалентна и постоянно сопряжена с риском. Теологическая мораль принимает это: ее ментальные категории не могут и не скрывают очевидных фактов реальности.

Папилломы - ПРИЗНАК наличия паразитов в теле! На ночь нужно пить кружку...
|

Наталья уже как щепка (-25 КГ за месяц)! Для этого она дважды в день...
|
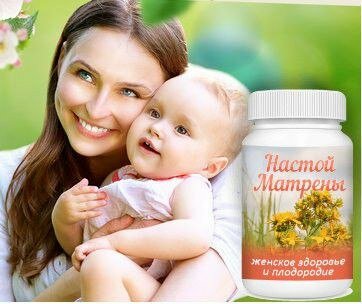
Ощутите радость материнства! Нужно всего лишь после еды...
|

Ротару: "Чтобы в 68 выглядеть на 30, мажу лицо копеечным..."
|